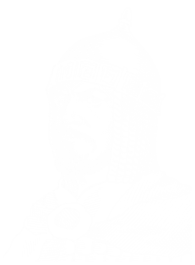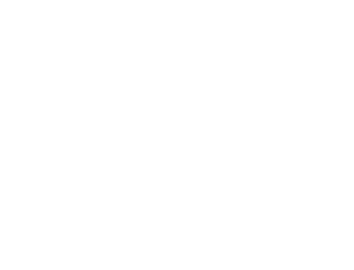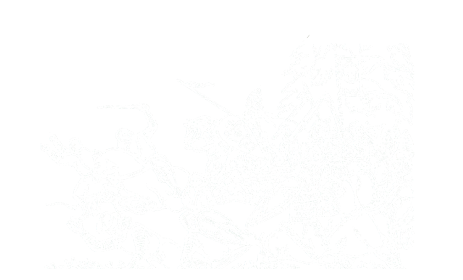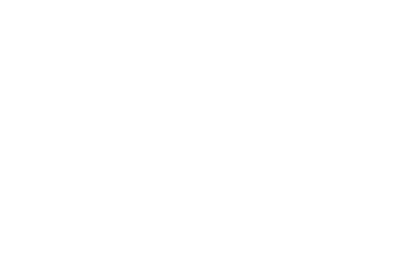
Военную науку князья постигали с самых юных лет. Александра, княжившего в имевшем столь беспокойных соседей Новгороде, это касалось в особенной степени. Довольно рано ему пришлось знакомиться с этой премудростью и на практике, тем более что в 1233 году, после скоропостижной кончины брата Фёдора, он стал единственным князем-представителем своего отца в этом строптивом городе.
Уже в том же году немцы вторглись в новгородские земли, захватив на время Тесово, и находившийся там глава местной русской административной власти оказался в плену. Ситуация обострялась, и в неё пришлось вмешаться Ярославу Всеволодовичу с его переяславскими дружинами. Собранными в кулак силами он нанёс удар по орденским владениям и перехватил инициативу. Русское войско двинулось к Юрьеву (Дерпту) (1234 год). Конечно, среди участвовавших в походе новгородских ратников был и юный Александр, для которого это была первая полноценная кампания. Здесь он впервые мог увидеть закованных с ног до головы в железные доспехи рыцарей. Здесь развернулась первая в его жизни война, которая дала бесценный опыт.
Окрестности Юрьева и Медвежьей Головы были разорены, а главное сражение произошло на берегу реки Эмайыги (Омовжа). Немцы потерпели поражение и беспорядочно отступили под защиту городских стен. Во время битвы произошёл примечательный эпизод, связанный с тем, что в какой-то момент рыцари оказались на речном льду, который под ними стал ломаться и, как сказано в летописи, «истопе ихъ много». Это даёт историкам повод сравнивать сражение на Омовже с Ледовым побоищем 1242 года. Разумеется, княжич должен был внимательно наблюдать за происходившим, стараясь всё как можно лучше запомнить.
Юрьев тогда взять не удалось: необходимых ресурсов для штурма не было, и вряд ли сам Ярослав ставил такую задачу. Однако агрессия со стороны меченосцев тогда была остановлена, и появилась основа для достижения мира, который, действительно, вскоре был заключен. Будет правильным предположить, что и к переговорам Александра должны были привлечь (дипломатия – продолжение войны другими средствами).
Едва переведя дух после похода под Юрьев, новгородцы столкнулись с новой опасностью: произошёл набег литвы на Русу (1234 год). И вновь Ярослав, помогая и сыну, и Новгороду, вмешался.
Зима миновала, и ополченцы, русские пешие воины, могли двигаться по воде; конница шла сухим путём. Целью агрессора был грабёж, потому из Русы литва отошла к Торопецким землям, а новгородской пехоте пришлось вернуться из-за недостатка провианта. Ярослав продолжал поход с конницей и все-таки настиг врага, заставив его бежать в леса, побросав оружие, коней и награбленный «товар». Наверное, и в этом походе Александр вполне мог участвовать, что, помимо ратной премудрости, давало ещё одно преимущество: его связь с Новгородом становилась всё более тесной. Да и опыт преследования литвы в регионе, расположенном близ Торопца, в будущем ему пригодится.
После ухода Ярослава Всеволодовича в Киев (1236 год) Александр княжил на берегах Волхова уже полностью самостоятельно. Юность оставалась позади, и теперь он нёс полную ответственность за принятые решения. Ему было понятно, что война – это не только бой в поле, но и оборона за стенами города. Потому в 1239 году против всё усиливавшейся литвы была построена сеть укреплённых пунктов – городов по реке Шелонь, которая уже сама по себе создавала естественную преграду на возможном пути продвижения врагов к Новгороду (среди этих городов был и современный Порхов). К тому моменту на Русь уже вторглись орды наследника Чингисхана Батыя, которые до Новгорода не дошли, но военные приготовления там, конечно, делались. Совсем близок был момент, когда князю придётся дать и главные в своей жизни сражения – на Неве и Чудском озере.
В основу рубрики положены работы Ю. В. Кривошеева, Р. А. Соколова.